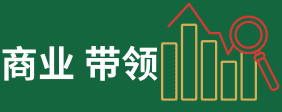Когда в 1939 году разразилась война, патриотического оптимизма не наблюдалось; вместо этого царили уныние и депрессия. Лишь меньшинство верило в победу. Официальная теория о навязанной Германии войне получила лишь ограниченное признание, но лишь очень немногие верили, что война была Рейха.
Доклад вермахта в целом казался
достоверным, но во второй половине войны доверие к нему росло всё меньше. Несмотря на суровые наказания, многие слушали британские радиопередачи о Германии, но часто осознавали, что это пропаганда, призванная ввести в заблуждение и деморализовать немцев.
Наибольшим сюрпризом стали быстрые победы в Польской, Французской и Балканской кампаниях:
«Если население застигнуто
врасплох ходом войны, поскольку не ожидало быстрых успехов, то изначальное желание вести войну не могло быть сильным», — заключает Зюльвольд. «Готовность к войне обычно предполагает ожидание быстрых и безопасных военных успехов».
Оккупация Дании и Норвегии рассматривалась 39% опрошенных как оборонительная мера для предотвращения нападения союзников. Западную кампанию рассматривалось преимущественно как неизбежное, а не как часть захватнической войны.
Начало русской кампании было встречено беспокойством по поводу нежелательного расширения войны. Уничтожение 6-й армии под Сталинградом в 1942 году рассматривалось как разрушительная катастрофа, часто как поворотный момент.
Отступления на Восточном фронте
были интерпретированы как «конец немецкого превосходства», и многие видели в этом «надвигающийся путь к всеобщему поражению». Две трети населения были убеждены, «что партизанская война вынуждает к беспощадной жестокости». Считалось возможным, «что жестокое обращение с гражданским населением спровоцировало враждебность и сопротивление».